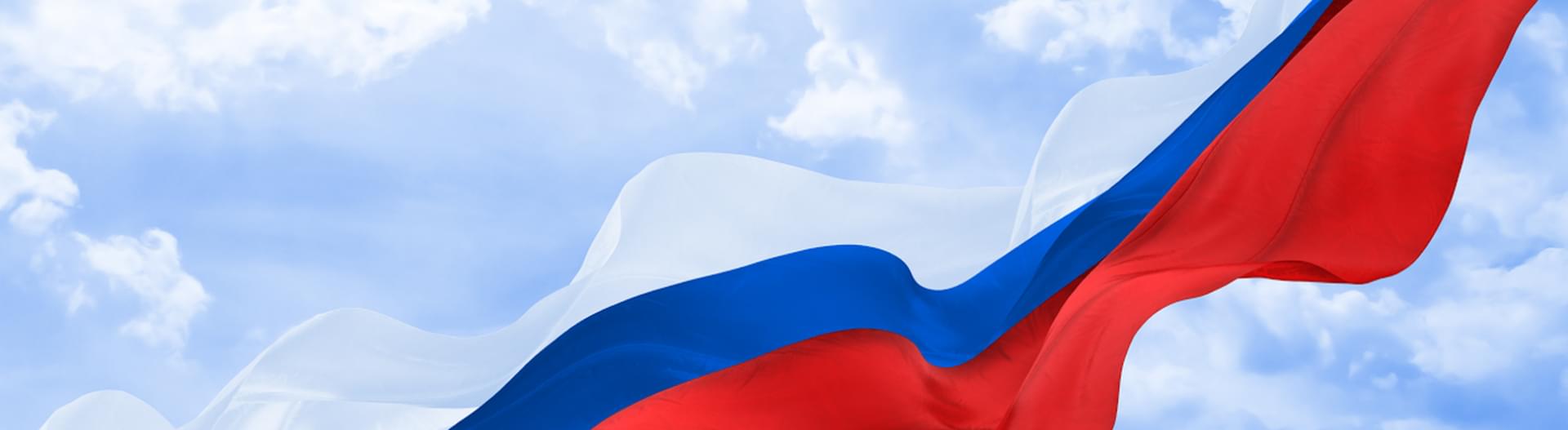МОСКВА. 14 ФЕВРАЛЯ 2022. ПИР-ПРЕСС. “Я думаю, что идеальных людей не существует, не существует и идеального мира. Но я полагаю, что мы все сможем наслаждаться жизнью, если мы научимся разделять власть, ресурсы и ответственность. В этом несовершенном мире я принадлежу к старшему поколению, которое не сделало достаточно, чтобы сделать мир безопасным и безопасным. По мере того, как мы передаём эстафету следующим поколениям активистов, лиц, принимающих решения, практиков и учёных, я надеюсь, что смогу быть полезной в их борьбе с беспорядком, который мы оставили, в частности, с разрушением климата и окружающей среды, ядерным оружием, бедностью и пандемиями, такими как COVID. Итак, мир, к которому я стремлюсь, не идеален, но он всегда должен быть наполнен надеждой, любовью, мужеством и уважением”, — директор Института Акроним (Великобритания) Ребекка Джонсон.
ОТ РЕДАКЦИИ: В этом выпуске «Без галстука» мы побеседовали с директором Института Акроним, учёной и активисткой, видным деятелем Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), крупнейшим специалистом в области международных режимов и членом Экспертного совета ПИР-Центра с 1994 года Ребеккой Джонсон. В 1980-х годах Джонсон была лицом протеста европейцев против нового витка советско-американской гонки вооружений. В 1990-х годах именно от Джонсон мир узнавал о течении переговоров по запрещению ядерных испытаний. Мы постарались узнать чуть больше о Ребекке как о человеке, хотя без политики, стоит признать, всё-таки не обошлось.
Читать интервью